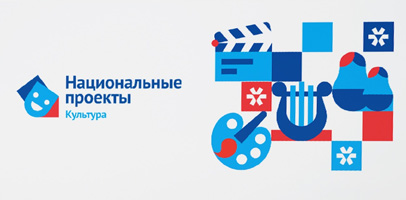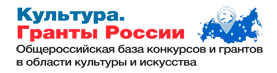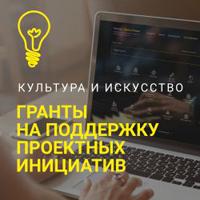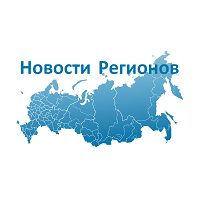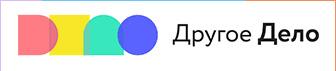Спектакль называется «Сиротливый запад», но территория сиротства гораздо шире. Помимо всего, слово запад можно трактовать как заход, закат, конец. И ведь, в самом деле — это финал, когда сын за мелочную обиду, не раздумывая, убивает отца. Вот и проблема обозначилась: в пьесе М. МакДонаха думать персонажам некогда, потому что они пребывают на уровне животных реакций, с одной стороны, и пустых слов, с другой. Оболочки слов без внутреннего духовного содержания, без осознания того, чт? именно ты говоришь, дурно пахнут. По этой причине на сцене смрадно, как в аду.
По той же причине самоубийство священника (Отец Уэлш — Анатолий Жуков) может расцениваться как бегство из земного ада. Из ада — в ад, потому что самоубийцы, по католической вере, должны быть наказаны. Но в данном случае священник, потерянный, полуспившийся от отчаянья, приносит жертву: он закладывает свою душу за двоих братьев. Беспомощный в своей наивности, он надеется, что братья образумятся, помирятся, найдут в себе что-то человеческое — божественную искру любви.
Когда-то А.С. Пушкин возмущенно сказал про Чацкого: «Он умен. Но кому он все это рассказывает?!». «Не мечите бисер перед свиньями», — говорит Христос, а священник забывает, что говорить можно только тем, кто способен вместить это слово. Что же получается, надежды нет? Бросить все, как есть? Жертва напрасна? На суд зрителя. Зритель реагировал по-разному.
Впереди меня вполне взрослая дама за сорок, сидевшая в третьем ряду, время от времени (особенно когда речь пошла об убийстве собаки) закрывала свои уши руками.
— Мне просто невыносимо все это видеть, — сказала моя соседка справа Нина. — Беспросветность! Как можно так жить?
На стене орудие убийства Христа крест висит рядом с орудием убийства отца; многочисленные фигурки святых, которые собирает один из братьев, мечтающий попасть на небеса (!); газовая плита — белый жертвенный камень, которому поклоняются язычники; и виски как одно из главных действующих лиц. Мельчайшие детали, трущобность сцен Достоевского, где каждый сантиметр комнаты и каждая реприза работают на замысел, показали, что МакДонах верит в типичность происходящего. Человечество усилиями автора, режиссера и актеров по ходу пьесы незамедлительно превращается в редкую по своей убогости коллекцию психопатов.
Парадокс в том, что им издревле известны правила: не убий, не лги, почитай отца и мать свою, не укради, не сотвори себе кумира, возлюби ближнего своего и так далее. В пьесе практически все нравственные заповеди нарушены. М. МакДонах, рисуя портреты героев, создал лишь оболочки и заполнил их словами — пустой сосуд с пустопорожней болтовней и низменными реакциями. Персонажи пьесы ведут себя, как маленькие дети, никогда не видевшие образца любви. Признаться, в таком случае они и в самом деле представляют наш общий портрет, поскольку сиротство и означает, что нам не на кого было смотреть, чтобы понять, как это — любить ближнего своего.
Прав был Святой Августин, сказав, что каждый из нас мало чем отличается от другого: «Я — человек, ты — человек; оба — жалкие людишки». Согласие с этими словами у меня возникало к тому же от ощущения, что смотришь на происходя-щее не со стороны, а сверху. И жалость комом в горле: все впустую! Сколько сил потрачено на то, чтобы сотворить их, а они!.. Признаться, критичный разум даже в сцене исповеди братьев друг другу не позволил усомниться: пустое! Нечего и ждать, что животное за один день эволюционирует в Человека!
Работа актеров была настолько блестящей, что создавался эффект присутствия и личного участия в этом абсурде. Коулмэн (Коулмэн Коннор — Владимир Ильин) и его брат Вэлин (Вэлин Коннор — Василий Скиданов) гениальной органичной пластикой мизансцен не заполняли пространство, а жили его. Это был не спектакль, но нечто большее. Наверное, поэтому такими изможденными казались лица актеров в финале.
Под занавес — еще один сюжетный парадокс: девушка (Гелин Келлехер — Марина Бабошина), которая проявила элементы любви к священнику (именно — элементы, самые простейшие), была той же самой, кто продавал братьям виски! МакДонах впечатляет неоднозначностью текста. Впрочем, это не он — сама жизнь.
Оттого, должно быть, и разделились мнения зрителей. Как я предполагаю, те, в чьей жизни подобный ужас имел место быть, отвергали пьесу; а те, кто не знал этого кошмара, радовались, что его не было. Или — наоборот?
Ясно одно: каждый «примерял» на себя сиротство и искал внутри собственной души крупицы истинной любви — единственный путь избавления от абсурда и дикости.
23.07.2011
Автор: Людмила Назарова