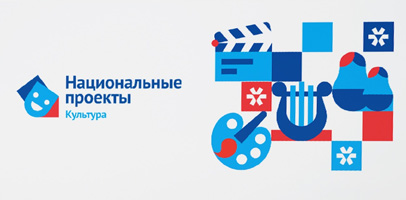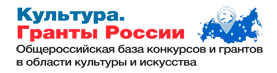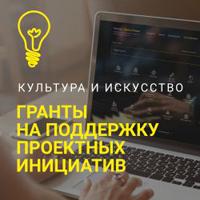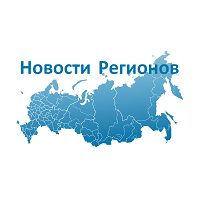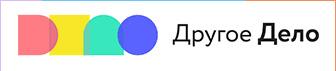Сегодня не о спектакле — о роли
При том, что и спектакль хорош и более чем заслуживает отдельного разговора, но роль... Шекспировский «Сон в летнюю ночь» Виктория Печерникова поставила в орловском театре «Свободное пространство» и роль Пака предложила актеру Андрею Григорьеву. Тем самым выиграв весь спектакль.
Обычно всегда, когда предстоит обсуждение спектакля, или когда знаю, что буду писать статью, делаю по ходу действия заметки в блокноте. Здесь же тоже записи были вполне стандартными, пока на сцене не появился Пак, — следующие страницы превратились в «фиксацию актера в роли».
Пак Андрея Григорьева — той же природы, что и стрелеровский Ариэль. Когда-то Ян Котт — этот создатель шекспировского театра XX века — грезил о том, чтобы Пэк обрел родство с Ариэлем, а «Сон» стал видимой предтечей «Бури». В этом совместном, думаю, творении актёра и режиссера так и вышло.
Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать значимость Пэка для сюжета, но никогда прежде не воспринимала его настолько свободным и неподконтрольным. Да, Оберон — «король теней» — его отчитывает, властвует над ним, как Просперо над Ариэлем, но не может удержать, не может подчинить до конца. «Смотри, как полетел!» — восклицает Пэк и остается на том же месте, лишь имитируя бег. И поглядывает на своего «повелителя»: мол, что ты мне сделаешь? Да, власть в твоих руках, но что все твои планы без меня? В этом внешнем лукавстве — словно проверка границ, длины «поводка», и напоминание о конечности могущества.
В этот момент, размышляя о сущности Пэка и природе его взаимоотношений с Обероном впервые подумала о «волшебном помощнике» — должном выполнить любые пожелания своего господина (и обладающем необходимыми силами, превосходящими силы этого повелителя), но лишь в заранее установленных границах. В случае с условным джинном границы задавались количеством возможных желаний, в случае с Ариэлем — потребностями Просперо (но конечная свобода была обещана). В случае с Пэком — кто знает? От того-то в спектакле во взгляде Оберона на своего «слугу» порой мелькает тень настороженности, сомнения: повелеваю ли я им еще или лимит исчерпан и мои пожелания могут обратиться против меня самого? Ведь сок цветка, ох, как опасен.
Двойственность, тройственность, «ртутная» изменчивость, импровизационность существования не актера, но персонажа — вот что отличает Пэка Андрея Григорьева. Его герой, словно бы сам не знает в каждый момент своего бытия, в каком направлении собственная природа заставит его совершить следующий шаг. Взгляд из-под непроницаемых черных линз (призванных скрывать любую эмоцию) никогда не прям — всегда испытующ по отношению к окружающему миру и самому себе. Что я сейчас сделаю. Против (или за?) кого я обращу свою силу?
В его легкости, почти нарушающей законы земного тяготения, в острой фиксации мельчайших движений — вплоть до движений шеи и кончиков пальцев — есть что-то от насекомого. От паука, плетущего свою паутину (плюс черный костюм, плюс игра в прорезях очередного занавеса). Но, удивительным образом, в этом нет ничего отталкивающего — сплошная притягательность, манящая добровольно позволить оплести себя этой самой паутиной.
«Мы сотканы из вещества того же, что наши сны». Этот сон ткет Пэк. Его воздушные перемещения по сцене с порой почти непредсказуемой траекторией — оставляют за собой невидимый след, в котором запутываются все персонажи — люди, эльфы, животные — все. Каждый становится частью этого плетеного сновидческого полотнища — еще одной струной, из которой Пэк сможет извлечь причудливые звуки. Потому что, как и полагается порядочному сну, он здесь не линеен, не статичен. Один образ замещает другой согласно не логике, но ассоциативной причудливости. И вот уже Пэк, восседая на высоком ящике в глубине сцены, как заправский джазмен, на невидимом рояле ткет уже новую зыбкую мелодию — закруживающую, подчиняющую, уводящую все глубже, все дальше от реальности. А затем дирижирует очищающим белым цветком: «вверх и вниз» — от сна к яви...
Джаз, джазовое самочувствие — очень точная находка для Пэка. Перед нами импровизатор, виртуоз, способный обернуть себе на пользу любой промах. И он знает об этом. И страшно собой гордится. Пусть и не осознавая до конца собственной природы, он безгранично восхищается собой. Отплясывает в свою честь ирландский танец на «бочке» (такой своеобразный привет ирландским корням). Аплодирует самому себе после удачной проказы: «смотрите, я играю!»
Природа Пэка зыбка и неустойчива — он соединяет воедино все миры: знатных афинян, эльфов, афинских ремесленников и нас, зрителей. И Григорьев в образе своего героя умудряется, действительно, охватить всех. Не сказать, чтобы количество текста у Пэка поражало воображение, но и его бессловесное (порой не прописанное Шекспиром) присутствие договаривает, достраивает, доплетает сцены и сюжет. Он (даже не знаю, о ком я сейчас пишу — о герое ли, об актере или о них обоих) вовлечен в происходящее каждое мгновение своего существования. Слушая, он пластикой и мимикой оценивает, комментирует, а порой и направляет происходящее. Обращаясь к зрителям, не забывает про каждый ярус, про каждую ложу, затягивая, завоевывая в свои сети каждого.
Как во время первого диалога Оберона и Титании, продолжает уже без слов очаровывать и завоевывать Фею, продолжая с ней немой диалог. Его взаимодействие с Феей. Вернее, внутри реалий спектакля его направленность на это взаимодействие — самые для меня неожиданные проявления натуры Пэка. Очень хороша в этом смысле сцена погружения Титании в сон, когда Фея поет ей свою колыбельную. В постановке Виктории Печерниковой она не произносит шекспировский текст: звучит красивая, какая-то неотмирная англоязычная (кажется) песнь, в которую очень внимательно вслушивается Пак, стоящий несколько в стороне, ближе к зрителям. Вслушивается и, словно неожиданно для самого себя, покоряется этой песне. Зачаровывающий вдруг оказывается почти зачарованным. В каком-то мечтательном трансе он начинает «переводить» для нас, зрителей, ее слова. Он слушает с лепестком в руке, ожидая, когда заснет Титания и можно будет выполнить поручение Оберона. Но, кажется, что эта задача почти ускользнула от него. Он слушает, смотрит на Фею, мечтательно проводя лепестком по своему собственному лицу. Он — существо непонятной, неосознанной, неуловимой, лишенной эмоциональности природы — будто бы в этом миг сожалеет о собственной «бесчувственности». Будто бы в этом миг оказывается искушаем желанием чувство испытать. Ведь вот он лепесток, а «если соком этого цветка...» И лепесток оказывается в столь опасной (возможно) близости от собственных глаз, искушая возможностью чувства.
...Не случилось. Стойкость или слабость тому виной? Не захотел поддаться искушению и изменить собственной природе? Или испугался убедиться, что природу эту невозможно изменить? Как бы то ни было, но миг проходит, и перед нами снова обаятельный ничему не подконтрольный, притягательный в своей филигранной расчетливости игрок. Впрочем, глаза его — даже в этой непроницаемой черноте линз — умудряются жить. Да, в них нет эмоции, но есть сама сущность персонажа — бездонная, опасная и такая затягивающая, что пробуждение перестает мыслиться чем-то неизбежным и желанным.
03.04.2024
Автор: Анастасия Иванова
Источник: ЖЖ