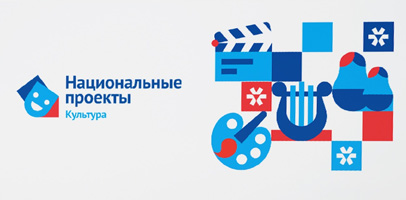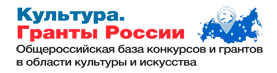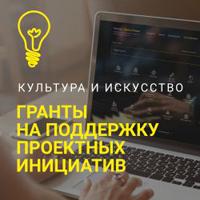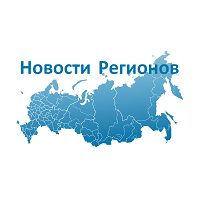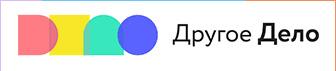Больше десятка лет назад, к 200-летию А.С. Пушкина, один из самых интересных российских режиссеров Геннадий Тростянецкий поставил в театре «Свободное пространство» спектакль «Маленькие трагедии», ставший событием в театральной жизни страны
Спектакль участвовал на фестивалях в Пскове, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Орле и вызвал большой интерес пушкинистов и театральных критиков. (Всего за годы сотрудничества санкт-петербургского режиссера и орловского театра на сцене «Свободного пространства» было поставлено пять спектаклей — все они со счастливой театральной судьбой. Последний спектакль «Белое на чёрном» совсем недавно был удостоен приза зрительского жюри на VI Всероссийском театральном фестивале, проходившем с 1 по 7 октября в Рязани). И вот Тростянецкий снова репетирует на сцене нашего молодежного театра, и снова — «Маленькие трагедии».
В интервью, которое Геннадий Тростянецкий дал специально для «Орловской правды», не только шла речь о причинах возвращения к «Маленьким трагедиям», но сделана попытка осмыслить природу художественного творчества, уяснить особенности творческого кредо этого, без сомнения, выдающегося театрального режиссера современности.
— Геннадий Рафаилович, Вам самому нравился этот спектакль?
— Да, и поэтому я приехал его восстановить. Правда, он выйдет в новой редакции, но «Моцарта и Сальери» я хочу оставить прежним. Потому что, мне кажется, я там угадал стиль. Пушкин мне удается... Удивительно, но нет у нас в России такого понятия — театр Пушкина. Вот есть театр Островского, Чехова, Гоголя, Горького... А вот театра Пушкина — нету. Не знают, что это такое. Видимо, коли считается, что «Пушкин — наше все», то подходят к нему с ключом традиционного психологического театра, театра жизнеподобия, что в принципе неверно. Для такой трактовки он закрыт. Ведь Пушкин черным по белому пишет в статье «О народной драме и драме Марфа Посадница»: «Правдоподобие все еще полагается главным условием и основанием драматического искусства. Но самая сущность драматического искусства именно исключает правдоподобие. ...Где правдоподобие в здании, разделенном на две части, из коих одна наполнена зрителями...?». В той же большой статье он пишет: «Народ требует занимательности». Поэтому, когда я что-то ставлю, я думаю о занимательности. И если где-то я эту задачу решил, то, считаю, сделал немало. Когда ставил «Моцарта и Сальери», было ощущуние полета, вдохновения. Я понял, что вот именно в таком ключе — площадного театра — нужно ставить «Маленькие трагедии». Все остальное уже надо было переделывать, но на это тогда уже не было времени.
— Что привлекает вас в театре «Свободное пространство» — возможности труппы, особенности публики или режим благоприятствования со стороны руководства театра?
— Вы знаете, у меня давняя дружба с орловским театром, и когда приезжаешь сюда, отрываешься от столичных театров, чувствуешь какую-то свободу. Все три перечисленных вами фактора здесь со знаком «плюс». Первый мой орловский спектакль «Господин де Пурсоньяк» сыграл свою позитивную роль — и в Орле, и на всероссийских фестивалях. Потом в Орле я ставил «Маленькие трагедии», затем «Любовью не шутят», «Ночь», «Белое на черном» — всего пять спектаклей. И ученица моя Наталья Черных поставила здесь «Очень простую историю» — очень хороший спектакль, который идет уже семь лет.
— Говоря о свободе постановщика, Вы говорите о свободе экспериментировать на сцене, использовать новые театральные формы?
— Понимаете, театр — одно из самых косных видов искусства, он очень тяжело меняется, по простой причине: самые прогрессируюшие виды искусства — те, в которых путь от замысла к воплощению практически минимален, например, музыка или живопись. Пришла в голову идея — взял и написал. Между композитором и инструментом, художником и холстом нет ничего, кроме Господа Бога. А в театре — с тобой вместе над воплощением замысла трудится несколько десятков человек: каждый по-своему думает, это первое; а второе — театр является искусством в формах самой жизни: ты задаешь образ, а актер, вся постановочная группа вносят в него что-то свое. Если в музыке изобразительное средство— звук, в скульптуре — объем,а в театре — человек, понимаете: человек про человека. И это безумно трудно. В театр приходят, чтобы посматривать за некой историей, которая косвенным образом на них воздействует. Музыка, скажем, впрямую воздействует. А театр должен дать некую историю и человек-зритель должен ею «потрястись». И это непросто. Ведь главное совсем не поиск идеи. Идею «Гамлета» любой грамотный, умный человек поймет. И передать идею — не есть профессия режиссера. Самое трудное — какую найти игру, какую художественную форму, актерское существование, чтобы это была правда.
— А я всегда полагала, что главное в театре — это идея...
— Это заблуждение, которое сидит в умах всех российских критиков, во всяком случае, у 99 процентов. ...Идея нужна, как без нее. Но в театре не идея важна. Какое ощущение жизни дает вам этот спектакль — вот что главное на театре! Он пропускает вас всего — со всеми порами вашей души, вашего тела, со всеми ощущениями — через абсолютно обжигающую жизнь! Вот в этом смысл театрального представления, в этом виртуозность, а вовсе не в головной идее.
— Но тогда вы отрицаете нравоучительность искусства?
— Напрочь отрицаю! «Нас мало избранных, — говорит Пушкин устами Моцарта,- счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов». А смысл монолога Сальери заключается в том, что он не видит пользы в том, что будет жить гениальный Моцарт: «Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет; оно падет опять, как он исчезнет: наследника нам не оставит он. ...Что пользы в нем?». А ведь это философия, которая потом охватит мир. Иосиф Виссарионович говорил: зачем нам этот Мейерхольд? Ведь у нас есть МХАТ. А это — случайный формалист, давайте его уберем. И все. О чем вы говорите? Что, Пушкин — нравоучением занимался в «Я помню чудное мгновенье»?
— Пушкин был приверженцем чистого искусства...
— Что значит — «чистое искусство»?
— Искусство для искусства, а не для нравоучения, не для исправления людей.
— Пушкин? «Я лиру посвятил народу своему»! «Глаголом жги сердца людей»! ...Предназначение художника не есть некая польза, он не должен заниматься исправлением нравов. Художник не должен давать ответы на вопросы: вот это нрав хороший, а это — плохой. Он должен ставить точно вопрос перед человечеством. В этом его предназначение. Мы (как говорит замечательный пушкинист Валентин Непомнящий) любим «Евгения Онегина» за то, что там внятно поставлены вопросы.
— Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», когда понял, что морализатор убил в нем художника...
— Абсолютно точно! Конечно! Умер Пушкин, и Николай Васильевич Гоголь решил взять на себя функции российского духовника. Он учил жить. Ведь до смешного доходило: «у вас должно быть столько-то кучек денег — одна кучка про запас, а вторая кучка...»
— То есть когда он (по совету славянофилов) задумался о том, что нужно не обличать пороки общества, а наставлять на путь истинный...
— Понимаете, как пути Господни неисповедимы, так и тайна души художника, его таланта... Это такая многомерная вещь... Не зря у Андрея Тарковского в «Андрее Рублеве» ни одного кадра нет, где Рублев стоит у стенки и пишет фрески. Потому что художник — это не техника живописи, которой можно овладеть за неделю, художник — это что-то другое. Вот, скажем, особенность стиля Пушкина, его творчества, его письма... Он особым образом видит жизнь, он всегда каждое явление видит как явление противоречивое, как несущее в себе свое собственное отрицание. Он диалектик. Он от природы драматургичен. Как Лермонтов сказал: «Поэт — невольник чести», я думаю, это о том, что любой подлинный поэт в своем творчестве всегда искренен, он — невольник искренности. Искренность, честность и есть честь художника, он — невольник честности, он честен. Пушкин драматургичен — даже с точки зрения техники письма. И его драматургия чрезвычайно показывает его дарование. Смотрите, какие названия дает он маленьким трагедиям: «Пир — но — во время чумы», «Гость — но — каменный», «Рыцарь — но — скупой».
— Уже в названии заложен конфликт, пародокс...
— И любое стихотворение Пушкина — парадоксально (но я никогда не слышал, чтобы это выявляли!): «Я помню одно потрясающее мгновение чуда: передо мной явилась ты». Вы не замечали, что это парадокс? Чудо — земная женщина. И парадокс — в любом стихе. «Мой дядя однажды заболел, оказался прикованным к постели, и этим самым заставил себя уважать». Парадокс? Он обожает играть понятиями, словами. Он как бы выявляет, что слово имеет разную сущность. Сальери: «Я избран, чтоб его остановить». То есть — убить. Моцарт: «Нас мало избранных, счастливцев праздных...». Одно и то же слово применяется — в одном случае к убийце, в другом случае — к творцу. У Пушкина это постоянно. И вот когда это понимаешь, тогда начинает что-то получаться у актера. Вопрос в том, как привычное сделать непривычным. Ведь люди в театре заняты одним: они постоянно ищут формы, которые помогут им взорвать какой-то кусок пьесы. Это не мои слова, это слова Брука, которые я от него слышал. Спросите у любого артиста любой страны на любой части света — что он хочет больше всего? Он ответит — хочу отразить жизнь во всей ее полноте. И он будет неправ. Потому что занят он каждый день тем, что ищет особую художественную форму.
— А вы разговариваете со своими артистами по поводу идеи спектакля, или только предлагаете им «особые формы»?
— А вы как думаете?! Рита Рыжикова так сыграла Моцарта, что потрясла всю Москву и Питер. Знаменитый критик Станислав Рассадин написал блистательную статью об этом, которая начиналась словами: «Что это такое?! Почему это так?! Почему артистка Рыжикова, играя Моцарта, заставляет меня бесконечно плакать?!». Что ж вы думаете, я ей говорю — иди налево, она идет налево, и все получается? Режиссер — это демиург. Понятие творца к нему подходит как к никому другому. Вот Господь задумал создать землю, он ведь закладывал в это некий смысл, и одновременно он распределяет — здесь суша, здесь вода, здесь будут летать, здесь — ходить, эти будут поедать этих...
— Так, значит, идея все-таки определяющая.
— Да нет, это как в литературе: идея — компонент произведения, а написано произведение, чтобы читатель взволновался. Он, читатель, должен быть взволнован, у него должен быть ком в горле, слезы... Наука занимается идеями, которые толкают вперед практическую жизнь. А в искусстве... Идея в искусстве всегда замешана на глубочайшей эмоции, если нет этой эмоции, этой страсти — это ноль. Искусство для того, чтобы мы плакали, страдали, смеялись до упаду, а не для того, чтобы мы идеи вычленяли — этим наука занимается. Вот у Бродского есть гениальное стихотворение — «Представление» называется:
«Это — кошка, это — мышка,
Это — лагерь, это — вышка,
Это время тихой сапой
Убивает маму с папой».
Идея — всем понятна, но как она выражена в форме казалось бы невинной детской считалочки? — Искусно!
01.11.2010
Автор: Татьяна Павлова
Источник: Орловская правда