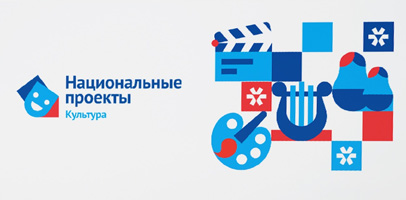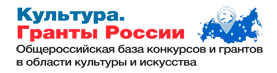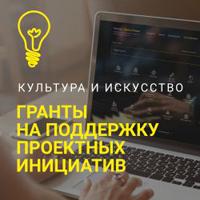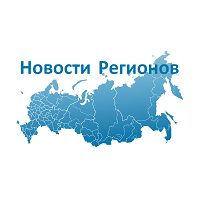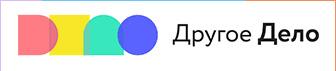Последняя режиссерская работа Натальи Черных — постановка «Стеклянного зверинца» Т. Уильямса с выпускниками актерского курса ОГИИК в Орле
Курс этот почти полностью был принят в труппу Молодежного театра «Свободное пространство», художественный руководитель которого Александр Михайлов был мастером у ребят. Собственно, он начал занимать их в спектаклях задолго до формального выпуска. «Стеклянный зверинец» органично вошел в афишу театра вместе с молодыми артистами.
Конечно, постановка эта необычна даже для свободного нрава молодежного театра. Но режиссер выстроила действие и отношения персонажей столь убедительно, что многие «странные», абсолютно услов ные вещи не вызывают у зрителей сопротивления. В том числе и то, что разновозрастных героев играют актеры-ровесники, что было естественно в студенческом театре.
Мир спектакля изначально дается как двойственный: истеричность Аманды и естественные — то тихие, проникновенные, то отчаянные — интонации в диалогах брата и сестры. Аманда все время играет, как все истероидные натуры. Том (Алексей Карза) и Лаура (Юлия Прохорова) чужды аффектации, ненавидят фальшь матери, но не сознают, что их поэтичность и ее артистизм имеют один корень.
Как хороша Аманда, когда появляется перед приглашенным в гости Джимом (Сергей Горбачев) — в пышном платье с декольте, явно не просто старомодном, а пришедшем из какого-то старинного, пыльного XIX века. С каким шармом она танцует с молодым красавчиком, кокетничая, лепеча и забывая о том, что пристраивает свою дочь... Вокруг нее — облако эротизма, и зрители понимают, что осмеянная Томом прошлая жизнь Аманды-девушки вовсе не миф.
Взгляд Тома на дом его юности дается извне — в буквальном смысле: рассказывая, рассуждая, он стоит за дверным проемом, облокотившись на перильца лестницы, и смотрит снаружи на мать и сестру, проникая, когда надо, в плоть прошлого сквозь «стену» (несуществующую!), через воздух. Становясь же действующим лицом прошлого, он заходит в дом через дверь, которая сохраняет призрачность, возвышаясь неким условным знаком перед креслами первого ряда (художник Ольга Фарафонова). Сценическая площадка не имеет никакого пространственного противопоставления залу — никакого возвышения, намека на сцену. Интонации вспоминающего Тома — А. Карзы не окрашены яркими красками, напоминают авторское поэтическое чтение, мелодичное, но достаточно монотонное. Совершенно очевидно, что Том, которого Джим шутливо прозвал Шекспиром, действительно поэт — тонкий, самоуглубленный, чуждый внешним эффектам, готовый погрузиться в поток жизни и в поток воспоминаний, все свое (мысли, чувства, образы любимых и отвергнутых людей) носит с собой и черпает из их постоянного присутствия болезненное, но живительное вдохновение.
Он достаточно легко переступает границы времени именно потому, что все времена живут в нем на равных. Юный высокий астеничный блондин, утонченный, сумрачный, погруженный в себя, Том вспыхивает в коротких диалогах с маленькой и напряженной Лаурой, птичкой-воробышком. Режиссер делает их любовь более пылкой, чем любовь брата и сестры. Намек на инцест дан, но это, скорее, один из потенциально возможных вариантов продолжения их абсолютной близости и дополнительная причина для бегства Тома и для его терзаний чувством вины.
Лаура в этом спектакле вовсе не похожа на инвалида — самоуглубленная, болезненно переживающая свою необычность, одинокость в мире. Лишь иногда она вздрагивает, вскрикивает и мгновенно, без видимой причины, падает как подкошенная, теряя сознание, — будто бы живет в постоянной готовности умереть в любую минуту, носит свою смерть в себе. В ней есть что-то хрупкое и ломкое, как в ее стеклянных фигурках.
В этом спектакле, далеком от благостности и ностальгии, много комического, ироничного, но при этом идет кровавое выяснение отношений между поколениями и полами.
Джим, мелкий, но умный донжуан и карьерист, в сцене с Лаурой, почуяв легкую добычу, буквально поглощает ее, овладевает ею, но, против воли, оказывается в плену ее стеклянного мира и злится на себя из-за этого. Выйдя от Лауры, он отчаянно, с ненавистью к себе отбрасывает в сторону подаренного девушкой единорога.
Вместо портрета на стене в рамке еще одной двери на заднем плане постоянно присутствует ушедший из дому отец — мужчина весьма веселого, судя по жестам актера, нрава — к нему апеллируют герои, он наблюдает за их жизнью, его присутствие важно и для Аманды, и для детей. Это шутка, персонифицированный фантом, призрак, но это и серьезное заявление о том, что ушедшие никогда не уходят, и наоборот — свой дом, своих родителей нельзя оставить, мир дома носишь с собой всегда, как бы ты его ни ненавидел, в этом «переносном» образе всегда черпаешь и свои иллюзии, и свои проблемы.
01.07.2006
Автор: М. Дмитриевская
Источник: Петербургский театральный журнал