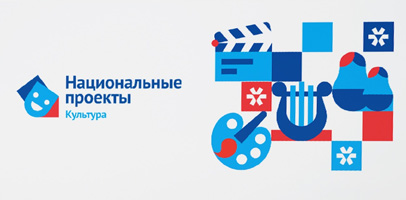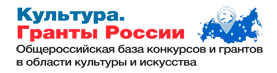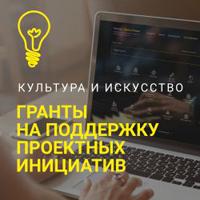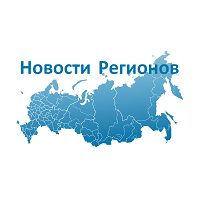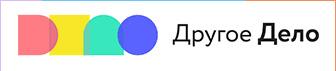Постоянный автор сетевого издания «ОрелТаймс» Ольга Кононенко о спектакле «Сцены из деревенской жизни» театра-лаборатории Michael Chekhov Theater LabVienna (Вена, Австрия)
«Дядя Ваня» против «Onkel Wanja»: трудности перевода или высокомерие непонимания? Представленный в рамках IX Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI неожиданный вариант постановки А. Чехова (продукт австрийского экспериментального театра) продолжил споры «о нас» и «о них».
...Босх, «скрипка и немножко нервно»
Пустота и скука жизни, мрачная безысходность — вот то главное, что увидели гости из Австрии в пьесе из российской жизни конца XIX века. Началась она с ритуального выноса некого фанерного домика, похожего на скворечник (без окон, без дверей), который грохнут наземь, предсказав фатальный исход событий. Главной придумкой постановки становится символическая фигура Судьбы, а имя Чехова порой кажется лишь поводом поговорить о модных европейских темах: об экологии, спасении лесов, критическом одиночестве разобщённых индивидуумов в современном мире и «этих угрюмых варварах» из Северной Гипербореи.
Дисгармонию бессмысленного существования усилят режущие, пилящие и сверлящие звуки. Настроение поддержат цветовые пятна: «жертвы» Судьбы — в грязно-коричневом или сереньком. Только объект всеобщего поклонения — Елена (алый верх, белый низ) — словно клубника со сливками, но её руки в прямом смысле связаны («она другому отдана, и будет век ему верна», что в контексте оригинальной постановки читается, скорее, как упрёк ей).
Таким образом, уже с начала действия в этом поместье всё идёт в противоход нетленным правам цивилизованного человека, то есть из рук вон плохо... А чтобы зритель не сомневался, «как всё запущено в этой России» — подключается видеоряд с сюрреалистическими картинами титулованного пессимиста Иеронимуса Босха. Они здесь выступают эпиграфом к каждой части постановки. Помните, конечно, эти развёрнутые метафоры средневекового ужаса бытия: полулюди, полу-деревья («условно люди»), деградация, изобретательный разврат, «большие рыбы пожирают малых»...
А картина «Корабль дураков», спроецированная на ложный занавес сцены, видимо, должна была сказать орловским зрителям о самой сути происходящего между чеховскими героями. Корабль давно никуда не плывёт, но бессмысленная и беспощадная пирушка продолжается, через днище проросло дерево, окончательно поставив плавсредство на якорь.
Босх (великий, на мой вкус) сегодня очень популярен на Западе. При этом принты его эсхатологических картин теперь (неожиданно, да?) можно встретить на обуви модного брэнда, на майках, даже на скейтбордах и досках серфингистов. Так и хочется спросить: а не европейский ли это фанерный Объединённый Домик так готовится к Апокалипсису, пророчески изображённому средневековым художником? Ведь потерять свою цивилизацию можно и «не приходя в сознание», как предрекал в XV веке грозный Иеронимус...
... «светлые личности», от которых никому не светло
Работа Michael Chekhov Theater LabVienna (театра-лаборатории из центра Европы — австрийской Вены) решена в стилистике современного театра, у которого туча поклонников. Заметно, что авторы изначально поставили целью показать «адаптированного» Чехова, этакого Чехова-лайт. Диалоги рефлексирующих героев, на которых сегодня не засыпают только искушённые зрители, снобы и чудно сохранившиеся в нашей стране истовые знатоки литературы, сразу вывели за скобки. Получился театральный конспект: в нём с нажимом проведены несколько тематических линий и звучат ударные афоризмы известного писателя: «Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом?» сменяются программным «Надо дело делать, господа...» или «я был „светлой личностью“, от которой никому не было светло...». Далее заявляется классическое, кажется, всем известное: «В человеке всё должно быть прекрасно...». Кстати, мало кто помнит, чем заканчивается фраза, в чём «упрекают» в пьесе «Дядя Ваня» любимую женщину (в которой как раз «всё-всё прекрасно»). А упрёк серьёзный: она одна среди них ведёт праздный образ жизни, и этой «праздностью заражает» окружающих, невзначай разрушая мир, который не создавала...
... не сотвори себе кумира
Замечали? Стоит появиться в стабильном коллективе, в гармоничной семье, в устоявшейся компании новому загадочно молчащему человеку, как люди начинают себя вести иначе, говорят не то, что обычно, совершают поступки, которых от них никто не ожидал? Вот так же загадочно закрыта и чеховская Елена Андреевна, молодая жена престарелого профессора, столичной знаменитости, появившись в подмосковном имении, где безвыездно проживали четверть века (!) три поколения первой жены профессора с домочадцами. И вокруг молчаливой красавицы, скучающей в деревне, закипают страсти.
Люди — планеты, летящие на привычных орбитах, (у каждой своё ядро, вес, структура, скорость), но появление нового «звёздного тела» меняет привычный полёт всех, независимо от их желания. Они начинают ускоряться (или тормозить), путать ритм, задыхаясь в этом беге, сталкиваться, тереться бортами, расшибаться, разлетаться осколками и даже сходить с орбиты. Вот такой «космический» пересказ драмы Серебряковых-Войницких можно составить, впервые прочитав это популярное произведение. Покинут эту провинциальную орбиту столичные звёзды, нарушившие привычный уклад дома, — и прежний ток жизни восстановится. Не без потерь, конечно. В час Х герой с очевидностью открывает для себя: жизнь-то не удалась! И менять её поздно! Личная драма Ивана Петровича Войницкого звучит у Чехова как нарушение заповеди «Не сотвори себе кумира». Сотворил. Поклонялся 25 лет. Думал: служу не просто Учёному, но его Таланту, а через него — человечеству. И вдруг прозрел: да тот — «сушёный сухарь», «пишущий perpetuum mobile». Пошлый старик любит себя и свои страдания. Его подагра и его персона день и ночь должны быть в центре внимания. Сын простого лекаря, он когда-то срубил дерево не по чину — счастливо женился на дочери сенатора. Вторым браком — на юной восторженной студентке, Елене Прекрасной. К деньгам и связям счастливо добавил молодость и свежесть романтически влюблённой девушки. Четверть века его дочь от первого брака Соня безропотно прозябает в деревне, его свояк Войницкий и бывшая тёща хором боготворят и дружно работают во имя успеха «большого учёного»: переписывают его рукописи, делают переводы, экономя на себе, шлют ему деньги на столичную жизнь. Очевидное кажется невероятным для этих его любящих: в Серебрякове никогда не было сердца, а в его трудах — жизни. А теперь он со всей энергией прощального эгоизма «заедает» жизнь близких!?
Добровольное заточение (эти трое отбыли полный рекрутский срок — 25 лет). Добровольное самопожертвование. Служение. И что теперь? Войницкий понимает: нельзя жить с повёрнутой в прошлое головой. А как можно? Его ответ: «Не знаю. Пока не знаю...»
Ответ его эмансипированной матери, которая «одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет в своих умных книжках зарю новой жизни» органично вытекает из её характера навечно восторженной гимназистки, хотя и престарелой.
Ответ Сони — в надежде на «жизнь светлую, прекрасную, изящную». А в реалиях — в трудах, печалях безответной любви, вере в «другую жизнь», на этом (или, скорее, на том) свете.
В ответе доктора Астрова — дорогая в то время самому Чехову «теория малых дел». Её смысл: «Делай то полезное, к чему ты способен. Работай ради будущего счастливого и свободного человека. Люби красоту. И уже проживёшь не зря».
Конечно, всего этого нет в австрийском спектакле... Наверное поэтому, вернувшись домой, захочется первым делом взять в руки томик первородного Антона Павловича, чтобы убедиться: «А был ли сегодня Чехов-то?»
... будем обжаловать приговор?
Между тем, спектакль по пьесе «Дядя Ваня» - «Сцены из деревенской жизни» всё дальше погружал зрителя в гнетущую атмосферу... Беспрестанно заламывающиеся руки, неудобные (словно вывихнутые) позы явно призваны были нарисовать в воображении метафорические картины полного краха... Массовка не сходила со сцены. Те самые люди-деревья из Босха (безвольные и бесхарактерные; где их посадили однажды, там и колосятся...) очевидно, изображали коммунальное россиянское проживание, отсутствие личного пространства. Качели по центру сцены — символ раздумий, сомнений, нерешительности героев — время от времени явственно превращались в плаху, где любящие молили о пощаде. То, как в этом вновь сублимируется европейское (а отнюдь не российское) подсознание, о плахах на площадях вплоть до середины ХХ века, желающие могут почитать по ссылке http://www.sdelanounih.ru/publichnye-kazni-kak-evropejskoe-razvlechenie/).
Роль Судьбы в постановке театра-лаборатории из Вены талантливо вела Ирина Продеус — режиссёр, сценарист, актриса, педагог и создатель театрально-образовательного центра. Она то с живой реакцией телепата (радость, изумление, испуг, недоумение, жалость) считывала мысли и чувства Войницкого (Йорг Берген), доктора Астрова (Марио Кляйн) — из-за плеча наблюдая за диалогами героев, вся превращаясь в слух... А то выступала прокурором, оглашая характеристики, подводя «итоги их жизни», звучащие сурово-окончательно. Краткое содержание эмоциональных монологов и споров «переводилось» то на немецкий, то на русский (спектакль задуман на двух языках, идёт без подстрочника).
Кстати, именно это объективное обстоятельство (труппа двуязычная) и привело к режиссёрской удаче постановки: зритель наблюдает легко читаемую актёрскую эмоцию, догадывается, что происходит. И при этом ощущение «Люди Всегда Трагически Для Них Говорят На Разных Языках», лишь изредка понимая друг друга, — становится всё сильней! Это одна из бесспорно прозвучавших в этом исполнении идей.
Временами Судьба отрывалась от персонального дела Войницкого, чтобы явить собой некий общероссийский рок. И тогда Ирина Продеус перевоплощалась на наших глазах в захворавшую нахохлившуюся птицу-грифа — могильщика всяких надежд. Сделано сильно! И птичку жалко... Только непонятно по-прежнему, откуда у «их» Чехова возник этот фатальный рескрипт: «обжалованию не подлежит!»?
... надежды питают не только юношей
У Чехова галерея нестандартных героев, много обещавших в юности. Чудаков, оригиналов, искателей, рефлексирующих интеллигентов... Они страдают и критикуют сами себя за то, что превратились... в спокойно-сытого обывателя.
Стоп! Разве для европейского сознания это ПРОБЛЕМА?
Читаем внимательно и между строк (драма психологическая), господа: да у Войницкого типичный кризис среднего возраста! Ощущение «вся жизнь впереди» прошло внезапно, а от нового состояния перехватывает дыхание: «Я ночи не сплю с досады, от злости, что так глупо проворонил время, когда мог бы иметь всё, в чём отказывает мне теперь моя старость!».
Перед нами драма неспокойной души и утраченных возможностей. Десять лет назад он увидел Елену впервые (тогда ничью ещё жену, семнадцатилетнюю), не проявленную вполне в её будущей женской силе. Восхитился, влюбился. Но... поделикатничал, бороться не стал. Сам себя отставил: двадцать лет разницы! Не богатый (хотя толстосумов среди управляющих поместьями по статистике — легион; но это ж дядя Ваня — он кристально честный!). Куда ему... такое счастье!? Предоставил девушку её Судьбе.
Достроили психологический образ Войницкого? Лучшего хотел для любимой, а через 10 лет увидел: муха она, цокотуха, в паутине капризного старика. Спасать надо! А чем человека спасают? Любовью! Вот он и борется на наших глазах за свой последний шанс...Там, где наличествует внутренняя сила, беспощадный к себе анализ, добровольная жертва, иностранцы прочитали «безволие», «лень» и «нытьё»? Чувствуете разницу?
Не слушайте, что кающийся интеллигент говорит про себя, смотрите, что он делает! Даже если он будет (без любви и без мечты) сельский бюргер, погружённый в агрономию и натуральное хозяйство, он ещё по факту каждого дня и благотворитель. Дом полон «лишних ртов», которые пребывают в блаженстве и гармонии. Чего стоит мелкопоместный дворянин Илья Телегин, приживальщик «со своей гордостью» (!): собственное именьице давным-давно великодушно продал в помощь детям умершей жены, сбежавшей от него на другой день после свадьбы, а сам пошёл на чужие хлеба, помогает вести Войницкому дела.
У Чехова — что ни судьба — отдельная поэма, триллер, мелодрама, — все разные, все на особую колодку деланы. Это про них была общая лицом массовка?
Спектакль открыл глаза и на такую особенность: для Европы обыватель — идеал, для Азии — норма, и только для России начала прошлого века — драма!
... выплеснуть с водой ребёнка?
В общем, перед нами весь вечер был Антон Павлович без чая на веранде, терзаний совести и духа, без неординарных людей, без гитары и лета в деревне. Зато всё явственнее, казалось, проступали клишированные письмена: «Этот карфаген так бездарен и плох, что должен быть непременно разрушен!».
Не мной замечено: за редким исключением искушённому зрителю смешно смотреть фильмы и спектакли «о нас». Иностранцы ошибаются в деталях, для нас привычных: то изобразят по примеру Бальзака «развесистую клюкву», под которой они якобы пили чай; то пропускают очевидное для нас, живописуя дух и нравы...
В этой практике искажений и корреляции (и всегда в одну сторону), уже ожидаемо самым пластически выразительным эпизодом спектакля театра-лаборатории стала сцена разгульного пьянства дяди Вани и доктора Астрова, сопровождающая важный для обоих разговор о чужой жене. Из каждого угла мгновенно выносятся по две бутылки водки в одни руки, массовка тоже, похоже, взялась «залить» своё горе (многовато алкоголиков, но доверчивый массовый зритель, «забывший» первородный текст по причине его нечитанности, поверит и в эти сцены спектакля, описанные классиком совсем иначе).
Абсолютно убедительно выглядят (просто «верю, верю!») и редкие эпизоды, где Войницкий с Соней обсуждают дела имения, счета, ведут поместную бухгалтерию, говорят «про деньги. Вот тут они вполне живые, даже глаза блестят осмысленно: иностранным артистам удалось нащупать почву под ногами!
Чехов подсмотрел в России тип необыкновенного, непрактичного, не успевшего реализовать себя идеалиста, полного талантами, как весенние зёрна — будущей жизнью. «Я мог бы стать русским Шопенгауэром или Достоевским», — в горькую минуту сетует он. И Войницкий, и Астров — это тот самый тип классического интеллигента, у которого «болит совесть», а ощущение долга борет всё.
Мелкая, кажется, деталь: Войницкий за все годы молчаливых обид даже не задумался поинтриговать против Серебрякова (наследственные дела запутаны и держатся на честном слове сторон). Не случайно Чехов даёт Астрову реплику: «На весь уезд нас только двое порядочных благородных людей...»
Из того же теста замешан и Михаил Львович Астров. Человек, который сажает лес, не надеется сам ни отдохнуть в его тени, ни согреться его хворостом — всё это взрастает для потомков. И даже Елену (заметив её интерес к себе) он, похоже, приглашает соблазниться «для её же пользы» — спасая, — легче будет пережить упрёки, капризы и истерики вчерашней знаменитости, буквально пьющей её молодую кровь. Доктор Астров её зовёт в лесничество, на природу. Его логика безыскусна: согрешив единожды с хорошим человеком, потом сможет несчастная женщина, много лет назад обольстившаяся фальшивым блеском, всю оставшуюся жизнь вспоминать его, провинциального чудака-рыцаря. Греться у этого тайного костерка... А иначе эта красавица с русалочьей кровью пропадёт в своих столицах!
В общем, вполне себе люди. И дела их просты, и помыслы понятны. А жизнь... да. Грустна и сурова.
Чехов в своих драмах обманчиво прост: люди ходят, пьют чай, разговаривают, а в это время рушатся их судьбы. Вот этот 25 кадр и надо увидеть за происходящим.
Жалею, что не спросила Ирину Продеус после спектакля: почему дядя Ваня в спектакле ходит на полусогнутых ногах? Может ли быть жалким то, что самоценно? Допускает ли режиссёр мысль, что сложно устроенный человек может быть вообще «не про деньги», «не про успех»? И его представление о счастье — многомерно? И добровольная жертвенность таит в себе и блаженство, и радость не меньшие, чем материальные богатства или рокот славословящей толпы...
Шалишь, Вена! Наш Российский Дом... хоронить рано. И не в такие передряги выстаивал. И пирующие пассажиры босховского «Корабля дураков» сойдут на нет. А чеховские герои (и из его драм, и из юмористических анекдотов) — выживут, они же навечно угаданные, двужильные?
«Но надо скорее работать, скорее делать что-нибудь, а то не могу... не могу...» — такова финальная сцена пьесы. Дядя Ваня и Соня работают, и племянница утешает: они ещё «увидят небо в алмазах»!
Постановка театра из Австрии выбрала другой финал — про унизительное терпение. Хотя «прекраснодушие» — это не ругательство, это, скорее, гуманитарная редкость. Не везде районируется. Через границу не перевезёшь — оно там просто не приживается, потому как не имеет денежного эквивалента.
25.06.2019
Автор: Ольга Кононенко
Источник: Сетевое издание ОрёлТаймс