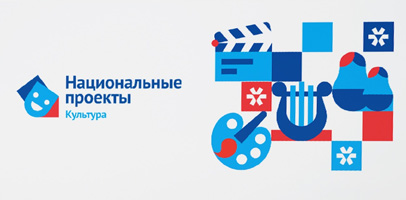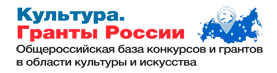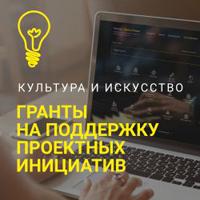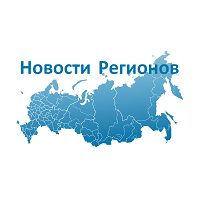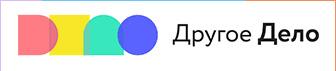Необычность спектакля «Белое на черном» во многом пред определена исходным текстом одноименной книги русского писателя Рубена Гальего
Тем, кто идет в театр с установкой «сделайте мне красиво», на этот спектакль лучше не ходить. А впрочем...
Спектакль переворачивает душу, и, может быть, иной любитель гламура очнется от привычных жизненных стереотипов прямо в театральном кресле: проснется в нем душа, прольется горячими слезами, омоет покрытые пеленой глаза, и он прозреет, он увидит...
О КНИГЕ
Необычность спектакля «Белое на черном» во многом пред определена исходным текстом одноименной книги русского писателя Рубена Гальего, родившегося инвалидом и выросшего в интернате для инвалидов советских времен.
О пережитом в «заведениях» и рассказывает книга. Подобного рода литература имеет прецеденты в отечественной классике: «Записки из мертвого дома» Достоевского, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, из современного — «Как я съел собаку» Гришковца, рассказывая о жизни «униженных и оскорбленных» в условиях изоляции. Эта тема у Гальего трактуется так же — человек даже в самых нечеловеческих условиях может и должен оставаться человеком. Об этом автор «Белого на черном» говорит в одном из интервью: «Главная задача в тюрьме — выжить, не сломаться. Творчество (в этих условиях) — одна из возможностей сохранить себя как личность».
Однако героев Гальего отличает одно существенное обстоятельство — они инвалиды, люди, как принято сейчас говорить, с ограниченными возможностями, т. е вдвойне беззащитные. По этой причине в книге Гальего главная идея русской литературы — христианско-гуманистическая — приобретает особую, звенящую, остроту: кто читал Евангелие, знает, что Христос призывал сострадать прежде всего тому, кто незащищен — вдовам, сиротам, нищим и калекам. «Полюби ближнего как самого себя» — вот такое напоминание о завещанном в Евангелии, живое, трепетное, конкретное — дает нам в своей книге писатель Гальего.
Русский, подчеркну, писатель («Кто вы, — спросили у него,— испанец, пишущий порусски?» "Я русский«,— ответил он), на русском материале. Поэтому этот урок милосердия особенно чувствителен для нас, «Гомо Советикус» — особой породы людей, в течение почти целого века отлученных от христианской морали, возросших на атеистической, антихристианской идеологии советских времен. Об этом обстоятельстве Гальего в своей книге не говорит прямо, в лоб, но одним, казалось бы, незначительным, сказанным вскользь замечанием: «Хорошие нянечки были верующими. Все... Верить было запрещено. Нам говорили, что Бога нет. Атеизм был нормой. Сейчас это кажется неправдоподобным, но так было. ...На веру нянечек просто закрывали глаза. И они верили. Верили, несмотря ни на что. Они долго молились во время ночных дежурств, зажигая принесенную с собой свечку. Они крестили нас на ночь. На Пасху они приносили нам крашеные яйца и блины. Приносить продукты в детдом было запрещено, но что могло поделать строгое начальство с неграмотными женщинами?».
А вот отрывок из монолога доброй нянечки: «Я имена всех деток, за кем ухаживала, на бумажку выписываю. У меня дома тетрадка есть, так я туда всех вас записываю. И за каждого на Пасху свечку ставлю. Много свечек уже получается, дорого, но я все равно за каждого ставлю и за каждого Отче наш читаю. Потому что за всех невинных деток Господь велел молиться».
«Спасибо всем добрым нянечкам,— признается в своей исповедальной книге Гальего,— за то, что научили меня доброте, за то тепло в душе, что я пронес через все испытания. Спасибо за то, что не выразить словами, не просчитать на компьютере и не измерить. Спасибо за любовь и христианское милосердие».
Христианская подоплека книги ненавязчива, автор не морализирует, он просто описывает жизнь такой, какая она есть, без прикрас и надуманностей. Может быть, оттого его, вроде бы мимолетное, признание о добрых нянечках воспринимается как откровение, как главное.
О СПЕКТАКЛЕ
Христианский мотив книги режиссер-постановщик Геннадий Тростянецкий (на снимке справа) тоже не старается особенно подчеркивать. Во всяком случае, на протяжении спектакля. Но то обстоятельство, что монолог доброй нянечки (процитированный выше), в книге затерявшийся среди множества маленьких новелл где-то в середине, Тростянецкий выносит в финал спектакля, говорит само за себя — постановщик подводит черту, выделяя самое важное. Да и отдает он этот решающий монолог своей самой любимой актрисе — Елене Крайней, доверяя доступному только ей одной умению тихими интонациями достучаться даже до «глухих и слепых». И слушающий услышал, и смотрящий — увидел.
Одетая не в сценический, в обычный костюм (но в белое), говорящая не от лица своей героини, а от себя лично, даже не поднимаясь на сцену, на одном уровне со зрителем, она воспринималась не как актриса, а как доверительный собеседник, и эта намеренная отстраненность от театральности была сильнее любого, даже самого искусного, лицедейства.
Каждому в зале показалось, что монолог обращен персонально к нему. И когда по заднику сцены, сверху, стали медленно опускаться, как разворачивающийся свиток, наклеенные на казавшееся бесконечным черное полотнище — белые на черном! — молитвенные записочки «о здравии», каждому стало ясно: эти записочки — о здравии каждого живущего, нашей общей души. Ведь душа всякого человека уже по своей природе — христианка, сказал философ.
Надо сказать, что прием простого чтения текста книги Гальего, без перевоплощения, был использован при постановке этой вещи во МХАТе им. Чехова (премьера состоялась в 2004 году). «Текст Гальего просто читался, это не было монотонным и скучным, ведь буквально каждое слово — это живая, пульсирующая боль», — писали критики. «Действительно, — подхватывали другие,— не будут же актеры изображать полупарализованных калек, ползать по сцене на животе и воспроизводить невнятную речь людей с пораженной нервной системой. Не станет режиссер заниматься реалистическим и подробным бытописанием ужасов жизни интернатов для инвалидов... Да и упражняться в сценических эффектах на таком материале тоже ни к чему. Есть тексты, которым не к лицу художественные украшения, не нужны постановочные приемы и даже декорации, потому что они абсолютно самодостаточны. „Белое на черном“ — именно такой текст».
Удивительно, но Тростянецкий не побоялся сделать именно с точностью до наоборот. Он сделал, казалось, невыполнимое. Актеры в его спектакле именно «ползают на животе по сцене, изображая полупарализованных калек». Но при этом ни постановочные приемы режиссера, ни декорации Дарьи Белой, ни даже... танцы (!) актеров, изображающих калек (хореограф Светлана Щекотихина), ни появление желто-солнечного клоуна не только не снижают эмоциональную остроту текста Гальего, но, напротив, игровая, подчеркнуто театральная природа спектакля делает знакомый текст более выразительным, сюжетные линии — более отчетливыми, персонажи за счет актерских находок становятся полнокровнее и по-житейски понятнее.
Посмотри, как будто говорят нам актеры, они — калеки, но они — такие же, как и мы: они любят, они дружат, они взрослеют, самоутверждаются, они чувствуют боль, холод и голод так же, как и мы; они полноценны, и возможности их, на самом деле, безграничны — лишь бы была в их жизни вера, надежда, любовь. Но любовь всего больше.
Вот выходят на авансцену красивые, сильные, стройные юноши — строгое черное трико подчеркивает их стать. Посмотри — это ты сам. С той лишь небольшой разницей, что — хлоп по колену! — у одного нет ноги, или у другого — хлоп по кисти! — нет руки... Только поддержи его, и он выживет в этом жестоком мире, встанет в строй рядом с тобой. Полюби его — как самого себя. Не отгораживайся...
Мир маленьких инвалидов, спрятанных в стенах специализированного заведения, на сцене отгорожен от остального мира высокой стеной, из-за которой не видно неба. Стеной, покрытой мертвенно-белой холодной плиткой, — как в морге. Плитка кругом, ничего живого — ни травинки, ни былинки. И только иногда где-то в углу внезапно распахивается маленькая дверь в другой мир — сияющий, теплый, цветной, разнообразный — мир, где живут другие. Другие, не такие... Няни, учителя, шефы, заехавшие на время чьи-то мамы... — осколки того, недоступного для одиноких и неходячих, мира. И от того, живая у них душа или нет, зависит, выживут эти беззащитные существа или нет. И только буквы — черные на белом, цветные на белом — маленькие калеки неуклюже выводят их большими кистями на выложенной плиткой стене; корявые, эти буквы понятны не всем — но они взывают к тем, кто способен любить: спасите наши души! Как SOS, как хоругвь, напоминающая о христианском милосердии к беспомощным, воспринимаются в этом контексте даже вывешенные на швабре... красные трусы лежачего инвалида: ведь от того, будут их менять или нет, зависит его жизнь...
Пожалуй, самые жуткие ощущения во время спектакля вызывает... музыка (музыкальное оформление Ольги Селиной). Никогда бы не подумала, что невинное «Балеро» Равеля способно навести такую жуть. Вернее, устрашающий эффект вызывает не сама музыка, а пропетый под нее текст инструкции по содержанию интернатовских больных... Хорошие, гуманные инструкции. Но после того, как мы увидели, что было там на самом деле...
...А если вдуматься, не менее страшно звучал бы под нее текст Всеобщей декларации прав человека. Ведь, по большому счету, все мы в каком-то смысле — инвалиды. С ограниченными возможностями.
21.10.2009
Автор: Татьяна Павлова
Источник: Орловская правда