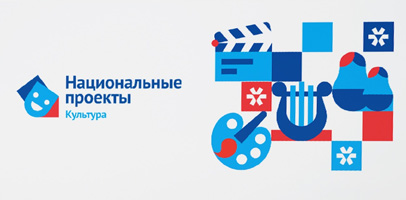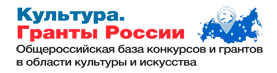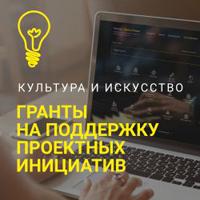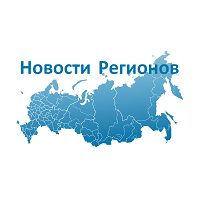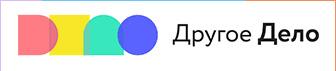Владимир Ермаков на страницах «Орловского вестника» о спектакле «БЫЛИ СЛЕЗЫ — БОЛЬШЕ ГЛАЗ»
Театр — это место, где проводятся опыты над людьми. Это не так страшно, как кажется тем, кто там ни разу не был. Да, иногда бывает больно, — разве можно смотреть равнодушно, как на твоих глазах страдают от несовершенства этого мира другие люди — артисты, одержимые персонажами. Но процедура катарсиса целительна для сердца. Более того, способность к сопереживанию есть мера живого чувства в человеке. Так что каждому надо иногда оторваться от действительности, чтобы увидеть свой внутренний образ отраженным в течение спектакля.
Прежде театр был в большем почете в нашем отечестве. Даже у властей предержащих. Взять, к примеру, Сталина... Нет, Сталина лучше не брать. Есть другие примеры. Известно, что император Николай I после премьеры «Ревизора» сказал своим сатрапам, коих обязал сопутствовать себе: — Всем досталось, а мне — более всех. Умный был зритель, хоть и царь. Нынешние руководители в театр не ходят; они предпочитают посещать бои без правил, где могут с полным удовольствием любоваться, как достается другим. Это, наверно, весьма поучительно, — но все-таки этого недостаточно. Политика есть утверждение власти; искусство суть утверждение человечности. Вместе им вроде как тесно, а врозь нельзя. Чтобы понять, насколько режим власти укоренен в реальном времени, надо проанализировать отношение руководства к актуальной культуре. Властители, которые не заинтересованы в том, чтобы в сфере своей ответственности поддерживать творческое состояние культурной среды, по сути своей временщики.
Особенно страдает без реальной поддержки театральная сфера. А ведь к театру надо относиться с особой бережностью — хотя бы потому, что чудесные явления искусства в нем особенно преходящи. Специфика театра — искусство здесь и сейчас, но суть театра в том, что остается, когда кончается непосредственное воздействие театрального представления. Когда сценические образы, созданные актерами, растворяются в угасающем впечатлении как кусочки рафинада в остывающем чае, мы понимаем, что в той действительности, что заключена в нас, стало чуть больше смысла. И радости — с привкусом печали. Радость от того, что было. Печаль от того, что прошло. Эта печаль, присущая мудрости — симптом высокой болезни, в просторечии именуемой духовностью. Осознание происходящего как преходящего наделяет его особой ценностью. Теряя, мы любим острее. Утрачивая, мы лучше понимаем то, что утрачиваем. Есть нечто общее у трав, ставших сеном, у деревьев, ставших дровами, у зверей, ставших добычей, у вещей, ставших старьем, у событий, ставших воспоминаниями, у людей, ставших историей, у слов, ставших литературой. Это нечто, исчезая, становится поэзией.
* * *
В Год литературы, по григорианскому календарю 2015, в этот трудный и тревожный год, когда главным людям не до книг, театр «Свободное пространство» открыл новый сезон спектаклем по мемуарной прозе Марины Цветаевой. Как бы напоминая, что были времена хуже нашего — и ничего, пережили. Заглавием спектакля стала поэтическая строчка: Были слезы — больше глаз. Этот гиперболический образ, родившийся у Марины Цветаевой из высказывания ее сердечного друга актрисы Софьи Голлидэй, вобрал в себя трагизм разрыва, которым стала их взаимная жизнь. «Повесть о Сонечке», положенная в основу спектакля, лишь в малой степени повесть, — это, скорее, нечто в старинном жанре: апокриф о хождении души по мукам. Режиссер Александр Михайлов решился переложить хронику душевных терзаний на язык театра, а актриса Валерия Жилина взялась показать на себе, как может болеть душа, обожженная безнадежной страстью.
Это — моноспектакль, и все в нем обусловлено театральным минимализмом. Сценография (художник Мария Михайлова) предельно лаконична; лучше сказать — аскетична. Белая голая железная койка — как открытая клетка жар-птицы. Сзади — экран, использующийся крайне сдержанно. И вокруг всего серое ничего. Событие спектакля являет одна актриса; все, что происходит на сцене, случается в ней. На актрисе серая хламида до пят, оставляющая снаружи лицо и руки. Вот, собственно, и весь реквизит. Для исполнения режиссерского замысла этого достаточно.
Валерия Жилина, проверенная артистка на главные роли, в этот раз решилась на то, что куда труднее — на единственную роль. Театр в одном лице — большое искушение и великое испытание для театра. Риск режиссера имеет свой резон: чтобы вести за собой, художник должен опережать злобу дня. Александр Михайлов доказал, что театр «Свободное пространство», несмотря на экстремальные условия работы, находится в хорошей творческой форме. Риск актрисы обоснован ее опытом: у нее природный дар и хорошая школа. Валерия Жилина выказала зрелость таланта и показала уровень мастерства. Сказать, что она справилась с ролью, было бы непростительным упрощением: ей удалось совместить в одном сценическом действии две параллельных традиции — литературности и театральности.
Из всего арсенала изобразительных средств в этой постановке задействованы в полную меру только два главных театральных инструмента — тело и голос. Весь спектакль — одна текучая мизансцена, отгороженная от давления обыденности непреложностью художественных жестов. Внутри серой, как клок сумрака, хламиды мечется тело, в котором мается душа; больше ничего на сцене не происходит, но кажется, что весь спектакль — одно сквозное действие. Сольный голос за счет богатства модуляций порождает полифонический эффект, создавая внутри спектакля драматическое многоголосие.
То, как работает актриса, вызывает удивление и уважение. Образ на сцене — виртуальная матрешка. В актрисе Жилиной воплощается поэт Марина Цветаева, а в ней проявляется актриса Софья Голлидэй. А попутно прямую речь перехватывают проходные персонажи, периодически проникающие с периферии воспоминаний в центр повествования. Играть так, наверное, страшно: раскрывать душу и открывать сознание — голосам? страстям? образам? судьбам? риск велик: вдруг войдут — и не уйдут! Так играть, наверное, сложно: на выдохе... на возгласе... на эмфазе... на грани нервного срыва. Это игра ва-банк. Валерия Жилина выиграла эту премьеру.
* * *
В образе Цветаевой, как и в ее творчестве, есть нечто исключительное. Исключительное во всех смыслах слова. Некая вненаходимость, свойственная ее пребыванию в мире, стала ее обретенной в страданиях родиной. Удел Цветаевой — над: надел, надвиг, надрез, надлом... надрыв; душа надрывается в невозможности высказаться; синтаксис рвется под напором слов. Одержимость? Неудержимость!
Поэзия в поэте действует как категорический императив. Сократ, быстрый и трезвый разумом как никто из философов, оставил за поэзией право на безрассудство: Поэт — существо легкое, крылатое и священное; и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка. *) Мало кто был поэтом в такой степени, как Цветаева. Ее экзистенциальная позиция — оппозиция обыденному сознанию, не способному подняться над действительностью — обитателям здешнего мира кажется эпатажной позой. А ее жизнь на самом деле проста и чиста, как слеза. Только эта слеза больше глаза. Словно в одну слезу собрались все слезы людей, о которых эта повесть — и совокупная капля стала магическим кристаллом, в котором преломилась великая и страшная эпоха.
К этому спектаклю применимо старинное жанровое обозначение: мистерия. Приобщение через переживание выводит за границы житейского опыта, расширяя внутренний мир зрителя настолько, насколько удалась театральная постановка. Искусство — это, конечно, прежде всего, мастерство, но мастерство — это еще не искусство. Истинное искусство — бесстрашное бесстыдство Марины Цветаевой, назначившей своей душе неисчислимую цену и выставившей свою обнаженную сущность на всеобщее прозрение:
К вам всем — что мне, ни в чем
не знавшей меры,
Чужие и свои?! —
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.
Основания для такой тотальной претензии более чем существенны.
За быстроту стремительных
событий,
За правду, за игру...
Послушайте! — Еще меня любите
За то, что я умру.
В творчестве Марины Цветаевой с героической откровенностью выражается ее мятущееся существо, всецело захваченное речью. Проза Цветаевой мало чем отличается от ее поэзии, — разве что степенью энтропии порядка слов. Опыты поэта в мемуарном жанре вроде бы ближе подходят к прозе жизни: хроника ее мытарств последовательно отложилась в биографических материалах. Но жизнь изнутри выглядит не так, как снаружи. Внутренняя достоверность поведанного — поверенного! — для Марины важнее действительных обстоятельств пережитого. Лирическая лихорадка — лихоманка! — жаром преображает скудость быта в страсть быть. Быть! Сбыться: случиться в мире как нежданное чудо среди прочих негаданных земных чудес. Прежде чем исчезнуть...
Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.
Необходимость в себе исчезает, когда нечем жить, некого любить, не на что надеяться, не за что держаться; и вот она падает... падает... падает... — какая она все-таки странная, — обмениваются мнениями очевидцы ее экзистенциальной катастрофы.
Визуальный образ поэзии: «Девочка на шаре». На той картине, что имеется в виду, Пикассо изобразил хрупкую гимнастку, старающуюся удержаться на зыбком основании. Большую часть картины занимает мрачный мощный мужик, — ветеран боев без правил. Он прочно уселся на устойчивом кубе и всем своим видом демонстрирует, кто тут хозяин. Основой сюжета послужила сценка из жизни циркачей. К миру театра эта притча тоже приложима. А если иметь в виду, что весь мир — театр, можно трактовать картинку как универсальную аллегорию. Девочка на шаре — это надежда. Тот, от кого она зависит, относится к ней настороженно и недоброжелательно; он давно бы прогнал ее прочь, да понимает, что без нее весь этот цирк скоро обанкротится. Такая вот притча...
Марина Цветаева, вечная девочка, усталая донельзя, всю свою жизнь словно балансировала на поверхности земного шара, ускользающего из-под ног. Оттого она так хваталась за людей — боялась: не удержится рядом, сорвется в бездну. Руководствуясь инстинктом самосохранения, благоразумные люди старались не вступать с ней в близкие (человеческие, слишком человеческие!) отношения. Все вокруг и около нее насыщалось неясной тревожностью. Казалось, даже привязчивый пошлый мотивчик предвещает ей беду: крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой... Раз над головой, значит — сорвалась, значит — пропала. Так оно и вышло... А когда в ретроспективе потери было осознано ее особое (особенное!) значение, все поверили в нее и стали ее любить. Так, как она просила. И больше того.
* * *
Премьера спектакля, состоявшаяся 27 августа сего года на чужой площадке, в концертном зале Дома народного творчества, оправдала надежды авторов и ожидания зрителей. Моноспектакль был поставлен и сыгран не как монолог, но как диалог, захватывающий общее внимание и вовлекающий в единое переживание; зрители стали не собеседниками, но соучастниками. И потому спектакль прошел на одном дыхании. Зал безмолвствовал — вплоть до конечной тишины, предваряющей аплодисменты. Успех? Несомненный. Резонансный. Заслуженный. Чей успех — актрисы? конечно! режиссера? само собой! но больше — успех тех, кто пришел (и тех, кто придет впредь) на спектакль, из последних сил поддерживая проседающий рейтинг третьей литературной столицы. Театр поэзии и поэзия театра сошлись в одном творческом порыве. На мой взгляд, очень своевременном. Метафора — это средство восстановить единство мира, опираясь на поэзию. **) Если Ханна Арендт права, русская поэзия будет возрастать в значении по мере падения курса рубля. Как бы корректируя качество жизни за счет повышения в прожиточном минимуме духовного содержания.
Когда власть говорит о духовных скрепах, хотелось бы надеяться, что те, кто говорят, понимают, о чем речь. Год литературы движется к концу. В актуальном культурном контексте вспоминается афористичная фраза из знаменитого монолога: И начинания, вознесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия...***) Жаль, что благие намерения федеральных властей не пошли дальше общих пожеланий. Жаль до слез. Но что проку от нашей жалости? Москва, исстари и теперь, слезам не верит. Даже если слезы — больше глаз.
Провинция исторически считается сердобольнее столицы. Отзывчивее, так сказать. Наш губернатор обещал, что к концу года отремонтирует здание театра. Может, и сам как-нибудь пожалует на премьеру. Так что театр должен на всякий случай подготовиться к такому повороту в культурной политике. Не пора ли Михайлову замахнуться на Гоголя? Давненько на орловской сцене не ставили «Ревизора»...
*) Платон «Ион».
**) Ханна Арендт «Люди в темные времена».
***) Уильям Шекспир «Гамлет».
Владимир Ермаков
Источник: http://www.vestnik57.ru/page/nekstati-28
08.09.2015